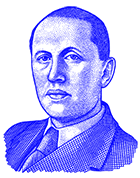13 марта в Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы прошел творческий вечер Дмитрия Бураго, киевского поэта, главы своего издательского дома, издателя журналов «Collegium» и «Соты». Мы встретились с Дмитрием до начала вечера, и он рассказал нам об антологии «Русский стих Украины. Век XXI. Начало», о пользе взаимодействия украинской и русской культур и о своем творчестве.
#3
#9
За последние 30 лет русская поэтическая речь на Украине сильно преобразилась
#4
— Дмитрий, здравствуйте! Расскажите для тех, у кого нет возможности посетить ваш творческий вечер, о чем сегодня пойдет речь и какие издания вы представите.
— Спасибо за приглашение! Я думаю, что сегодняшний вечер станет продолжением вчерашнего, который прошел в Доме русского зарубежья. Мы успели немножко рассказать о нашей деятельности и начали разговор о русской поэзии Украины. И книга, которую я сегодня буду представлять в двух вариантах (выпущенном в Киеве в нашем издательстве и изданном в журнальном виде литературным объединением «Веси») посвящена именно русский поэзии Украины. Нам кажется, что за последние 30 лет поэтическая речь на Украине, в том числе и русская поэтическая речь, сильно преобразилась. Она отличается от того, что происходит в России: это несколько другая поэзия, это другое звучание, другая метафора.
— Спасибо за приглашение! Я думаю, что сегодняшний вечер станет продолжением вчерашнего, который прошел в Доме русского зарубежья. Мы успели немножко рассказать о нашей деятельности и начали разговор о русской поэзии Украины. И книга, которую я сегодня буду представлять в двух вариантах (выпущенном в Киеве в нашем издательстве и изданном в журнальном виде литературным объединением «Веси») посвящена именно русский поэзии Украины. Нам кажется, что за последние 30 лет поэтическая речь на Украине, в том числе и русская поэтическая речь, сильно преобразилась. Она отличается от того, что происходит в России: это несколько другая поэзия, это другое звучание, другая метафора.
Много было разговоров и в середине XX века, и во второй его половине о южнорусской литературной школе — я имею в виду Бабеля, Багрицкого, Катаева, Ильфа, Петрова. Говорили о том, что ее необходимо изучать и рассматривать особо, потому что язык, например, того же самого Бабеля несколько иной. Об этом писал Шкловский, он писал, что этот язык имеет свои особенности, поэтически более мягкий и — это вообще присуще южным регионам — более мелодичный.
Но говорить о поэзии, русской поэзии Украины, как об отдельном явлении до 80-90-х годов очень сложно, потому что всегда была такая тенденция: пишешь по-русски — печатайся и работай на территории РСФСР. И если в советское время кто-то в Украине писал не на национальном языке, а на русском, то, конечно, печататься было почти негде. И Арсений Тарковский переехал, и Борис Слуцкий переехал, и так далее — можно называть десятки замечательных поэтов, которыми мы, живя на Украине, гордимся, но говорить о том, что это русская поэзия Украины, нам сейчас сложно, потому что они все-таки были вовлечены в некий литературный дискурс большой России. А мы волею судеб оказались на обочине литературных процессов России…
#7
#8
— А это ощущается именно так? Есть ли вообще какие-то контакты между крупными литературными группами там и здесь?
— Вы знаете, контакты распадаются. Это как после развода: люди, которые прожили часть жизни вместе, все реже и реже вспоминают друг о друге. Вот так же и здесь. В 90-е годы казалось, что вообще ничего такого большого в культурном плане не произошло, мы находимся в одном поле. Просто экономическая ситуация, а точнее — экономическая деградация всего постсоветского пространства играла настолько важную роль, что мы все занимались выживанием: кто-то таксовал, кто-то еще что-то делал. На зарплату учителя или преподавателя вуза выжить было совершенно невозможно, тогда она составляла 20-30 долларов. Всегда приходилось заниматься чем-то еще. Поэтому, если говорить о моем поколении, оно, вероятно, сохранило все связи с Россией теоретически, но практически нам было во многом не до литературы.
— Вы знаете, контакты распадаются. Это как после развода: люди, которые прожили часть жизни вместе, все реже и реже вспоминают друг о друге. Вот так же и здесь. В 90-е годы казалось, что вообще ничего такого большого в культурном плане не произошло, мы находимся в одном поле. Просто экономическая ситуация, а точнее — экономическая деградация всего постсоветского пространства играла настолько важную роль, что мы все занимались выживанием: кто-то таксовал, кто-то еще что-то делал. На зарплату учителя или преподавателя вуза выжить было совершенно невозможно, тогда она составляла 20-30 долларов. Всегда приходилось заниматься чем-то еще. Поэтому, если говорить о моем поколении, оно, вероятно, сохранило все связи с Россией теоретически, но практически нам было во многом не до литературы.
И несмотря на то что мы с 90-х годов издаем огромное количество журналов на Украине (возникло более 50 русскоязычных проектов), этого в России никто не отметил. У нас даже маленькие города, такие как, например, Горловка в Донецкой области или Житомир, имели свое издание. Журнал или альманах мог выйти 2-3 раза, 5 — максимум, потом ресурс заканчивался, потому что иссякали энтузиазм и автура, денег не было и так далее. Но тем не менее основание для осознания новой литературной реальности в 90-е годы несомненно есть. Я не вполне могу сравнивать с Россией, но, мне кажется, издания и литературные проекты появлялись у нас не менее активно, чем в России. В основном это были русскоязычные издания, инициированные энтузиастами, самими авторами. Не всегда они отвечали высоким эстетическим законам, но в данном случае не это важно.
Важно то, что они были инициированы самими людьми и государство к этому не имело никакого отношения. Подобные украиноязычные издания я могу по пальцам пересчитать, потому что перед ними стояла другая задача: «Государство нам должно». А здесь уже было понимание, что государство помочь не сможет и нужно каким-то образом все делать самим. И если во всей огромной советской Украине был один полноценный русскоязычный журнал (причем в Эстонии таковых было три) — «Радуга», то за 90-е годы образовалось более 50 наименований. Я думаю, что рано или поздно нам придется оглянуться и посмотреть, что это было, потому что сейчас от них практически ничего не осталось, но тем не менее в них запечатлена, задокументирована, если угодно, литературная жизнь Украины в русскоязычном сегменте. Во всяком случае о русском языке последнего рубежа столетий в Украине можно судить благодаря этим изданиям, если, конечно, серьезно подойти к их изучению.
— А почему в вашей антологии представлены только поэты XXI века?
— Именно XXI века. О 90-х годах я бы хотел рассказать через журналы Украины. Думаю, руки как-нибудь дойдут до этого. А здесь нашей задачей было не собрать всех существующих поэтов Украины, а собрать самых, как нам кажется, интересных в плане звучания и метафор, чтобы благодаря этому изданию у читателя могло возникнуть ощущение нарождающегося явления. Я не могу сказать, что русский стих Украины как явление уже сформировался, но тем не менее, если представить себе такую же антологию из поэтов русского зарубежья или из поэтов, которые живут и работают на территории России, сравнить звучание, метафору, обращение к тому или иному принципу рифмовки, просмотреть метрику, мы обнаружим, что в Украине за это время получилось довольно интересное поэтическое направление.
— А почему в вашей антологии представлены только поэты XXI века?
— Именно XXI века. О 90-х годах я бы хотел рассказать через журналы Украины. Думаю, руки как-нибудь дойдут до этого. А здесь нашей задачей было не собрать всех существующих поэтов Украины, а собрать самых, как нам кажется, интересных в плане звучания и метафор, чтобы благодаря этому изданию у читателя могло возникнуть ощущение нарождающегося явления. Я не могу сказать, что русский стих Украины как явление уже сформировался, но тем не менее, если представить себе такую же антологию из поэтов русского зарубежья или из поэтов, которые живут и работают на территории России, сравнить звучание, метафору, обращение к тому или иному принципу рифмовки, просмотреть метрику, мы обнаружим, что в Украине за это время получилось довольно интересное поэтическое направление.
Чем оно характерно? Оно меньше обращается к сатире, к ёрничеству, которые на московских площадках считаются естественными. У нас больше сентиментальных ноток. На мой взгляд, это необычайно важно, потому что мы (люди, покорившие космос и интернет) настолько зазнались в своем самозванстве, что какие-то обычные, естественные человеческие проявления вызывают некоторую неловкость. В Украине, мне кажется, стих преодолевает дефицит человечности.
— Скажите, попадет ли эта антология хоть каким-то образом в российские книжные магазины?
— Нет, этого не может быть потому, что мы не можем ее привезти, легче было бы в Берлин. У нас практически нет возможности продавать русскоязычные книги в книжных магазинах, но через интернет спрос очень ощутимый. Русская книга не теряет своей популярности. Мне кажется, это потому, что мы существуем в двуязычном пространстве, где русский язык не является препятствием и не нуждается в переводе, особенно если это язык автора.
— Скажите, попадет ли эта антология хоть каким-то образом в российские книжные магазины?
— Нет, этого не может быть потому, что мы не можем ее привезти, легче было бы в Берлин. У нас практически нет возможности продавать русскоязычные книги в книжных магазинах, но через интернет спрос очень ощутимый. Русская книга не теряет своей популярности. Мне кажется, это потому, что мы существуем в двуязычном пространстве, где русский язык не является препятствием и не нуждается в переводе, особенно если это язык автора.
#11
Отрезать украинского поэта Тараса Шевченко от русского прозаика Тараса Шевченко очень тяжело… Я не знаю, где эти ножницы добыть, и смысла в них нет
#12
— Это очень интересно. А можете для тех, кто не доберется до книги «Русский стих Украины. Век XXI», назвать оттуда ключевые имена?
— Это и Александр Кабанов — он достаточно хорошо известен в России, это замечательный поэт, который создал свое направление. Ирина Евса, харьковский поэт чичибабинской школы. Киевский поэт Алексей Зарахович. Елена Буевич — Черкассы, Тина Арсеньева — Одесса, сложно остановиться… В антологии опубликованы и те, кого уже с нами нет, кто ушел из жизни буквально за год-полтора до выхода книги. Мы решили, что без них антология будет неполной, потому что они сыграли определенную роль в становлении русского стиха Украины. Это и Татьяна Аинова, и Владимир Пучков…
Самым важным было показать, что у нас в XXI веке есть русскоязычная поэзия, несмотря на проектный разрыв славянского сообщества. Отрезать украинского поэта Тараса Шевченко от русского прозаика Тараса Шевченко очень тяжело и противоестественно. Я не знаю, где эти ножницы добыть, и смысла в них нет. Николай Васильевич Гоголь оказался на Украине в курсе зарубежной литературы, а имена Виктора Некрасова и Бориса Чичибабина практически преданы забвению, во всяком случае в образовательных курсах.
— Это и Александр Кабанов — он достаточно хорошо известен в России, это замечательный поэт, который создал свое направление. Ирина Евса, харьковский поэт чичибабинской школы. Киевский поэт Алексей Зарахович. Елена Буевич — Черкассы, Тина Арсеньева — Одесса, сложно остановиться… В антологии опубликованы и те, кого уже с нами нет, кто ушел из жизни буквально за год-полтора до выхода книги. Мы решили, что без них антология будет неполной, потому что они сыграли определенную роль в становлении русского стиха Украины. Это и Татьяна Аинова, и Владимир Пучков…
Самым важным было показать, что у нас в XXI веке есть русскоязычная поэзия, несмотря на проектный разрыв славянского сообщества. Отрезать украинского поэта Тараса Шевченко от русского прозаика Тараса Шевченко очень тяжело и противоестественно. Я не знаю, где эти ножницы добыть, и смысла в них нет. Николай Васильевич Гоголь оказался на Украине в курсе зарубежной литературы, а имена Виктора Некрасова и Бориса Чичибабина практически преданы забвению, во всяком случае в образовательных курсах.
Вряд ли мы что-то сможем изменить, в том числе в системе образования, которая претерпевает в Украине деградационные изменения. Как и во всем мире, кстати. Это не значит, что у нас в Украине плохо, а где-то хорошо. В России тоже ЕГЭ et cetera… С советской школой тяжело сравнивать ту, которую сейчас заканчивают наши дети. Я преподаю в университете. Ко мне на филологический факультет приходят студенты, которые не знают, что Николай Васильевич Гоголь писал на русском языке. Они уверены, что Гоголь писал на украинском языке, а царь заставил его все перевести на русский. Это не шутка!
— Было бы здорово, если бы Гоголь действительно так делал: писал и переводил.
— Да, это было бы замечательно и бессмысленно. А то, что взаимодействие украинской и русской культур является огромным богатством Украины, — несомненно. Вот представьте себе: Мандельштам, 1938 год. Что он берет в свой последний путь? «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко. Не лежал ли «Кобзарь» у царя на прикроватной тумбочке? Лежал. Представить себе русскую литературу без Шевченко невозможно — какой будет Платонов без Шевченко? Как и без Гоголя представить себе русскую литературу. Это невозможно! То же самое с нашим так называемым Расстрелянным возрождением.
— Было бы здорово, если бы Гоголь действительно так делал: писал и переводил.
— Да, это было бы замечательно и бессмысленно. А то, что взаимодействие украинской и русской культур является огромным богатством Украины, — несомненно. Вот представьте себе: Мандельштам, 1938 год. Что он берет в свой последний путь? «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко. Не лежал ли «Кобзарь» у царя на прикроватной тумбочке? Лежал. Представить себе русскую литературу без Шевченко невозможно — какой будет Платонов без Шевченко? Как и без Гоголя представить себе русскую литературу. Это невозможно! То же самое с нашим так называемым Расстрелянным возрождением.
Мне, оговорюсь, никогда не нравилась эта формулировка, но она уже везде зафиксирована. А ведь надо понять, возрождение чего? Мне никто до сих пор не смог объяснить, что возрождалось. И если оно «расстрелянное», было ли оно? Я не понимаю эту логику, но то, что это был Серебряный век украинской поэзии, — несомненно. Как и то, что в этой поэзии (замечательного Драй-Хмары, Плужника и других) метафора и ритмика воплощались в параллели с тем, что делали тот же самый Мандельштам и Пастернак. На пересечении поэтических троп украинской и русской поэзии — наш образный мир.
Недавно мы отмечали столетие со дня встречи Надежды Яковлевны Мандельштам (тогда еще Хазиной) со своим будущим супругом. Она была коренной киевлянкой, с Осипом они встретились в Киеве в кругу украинских литераторов-футуристов и русскоязычных поэтов. У них был один мир, они вместе выступали. Была одна солянка, один борщ, одна история, и поэтому все взаиморазвивалось.
Мы сейчас выпускаем репринтные издания словарей и грамматик Украинской академии наук конца 20-х — начала 30-х годов. Это было время репрессий, когда о материальном достатке и речи не было, а впереди ждал голод. Тогда Академия наук объединяла людей не по этническому принципу. Одним из самых выдающихся ученых был Агатангел Крымский, который не имел и капли славянской крови. И тем не менее именно он заложил основы большого словарного дела, создал русско-украинский словарь, который преобразил видение украинского языка. Да, этот словарь пострадал: 4-й том был уничтожен в гранках, не осталось вообще ничего, вся редколлегия была репрессирована, но дело было сделано. Мы сейчас переиздали три тома, а четвертого в мире не существует.
Недавно мы отмечали столетие со дня встречи Надежды Яковлевны Мандельштам (тогда еще Хазиной) со своим будущим супругом. Она была коренной киевлянкой, с Осипом они встретились в Киеве в кругу украинских литераторов-футуристов и русскоязычных поэтов. У них был один мир, они вместе выступали. Была одна солянка, один борщ, одна история, и поэтому все взаиморазвивалось.
Мы сейчас выпускаем репринтные издания словарей и грамматик Украинской академии наук конца 20-х — начала 30-х годов. Это было время репрессий, когда о материальном достатке и речи не было, а впереди ждал голод. Тогда Академия наук объединяла людей не по этническому принципу. Одним из самых выдающихся ученых был Агатангел Крымский, который не имел и капли славянской крови. И тем не менее именно он заложил основы большого словарного дела, создал русско-украинский словарь, который преобразил видение украинского языка. Да, этот словарь пострадал: 4-й том был уничтожен в гранках, не осталось вообще ничего, вся редколлегия была репрессирована, но дело было сделано. Мы сейчас переиздали три тома, а четвертого в мире не существует.
То же самое у нас на Украине происходило и с еврейской культурой, и с греческой: рассыпались алфавиты, шрифты типографские уничтожались. И в такое время эта Академия наук за 8 лет сделала больше, чем мы сейчас за 30. Как это так? При всей декларируемой «украинизации», происходит нечто совсем другое, вот же в чем дело. Наше время культурных и языковых ограничений, которые идут сверху, работает против украинской культуры. И это видно и по языку украинских писателей, и по всей нашей разобщенности. Перспективы весьма туманны. Некоторые, пишущие по-украински, в итоге переходят на польский. Парадокс!
#18
#17
— То есть с возможностями для развития литературы совсем плохо?
— Возможности есть, просто я думаю, что существуют определенные ритмы времени. Вот, кажется, 30-е годы: сталинский террор, очень большие социальные преобразования, уничтожение деревни, не только в Украине, но и в России, Казахстане, выгон людей с постоянного места жительства на большие стройки, на заводы, чтобы они становились рабочим классом страны, которая строила светлое будущее, оправдывать невозможно. Просто есть ощущение, что в то время культура, литература Украины развивались как никогда быстро и продуктивно. Успехи тех лет несоизмеримы с достижениями лет независимости.
Мы настолько стали новаторами, настолько наша цивилизация предана теории исключительного новшества, что это, конечно, отражается в искусстве. Новое — признак искусства. Ходишь в Центре Жоржа Помпиду, на последнем этаже, и понимаешь, что здесь представлено культурное пространство современного искусства в самых — все-таки Париж — лучших образцах. И если представить, что его французские окна каким-то образом разбиваются, в помещениях погуляет ветер, снег, дождь — ничего от этого искусства не останется. Собрать экспонаты будет практически невозможно, потому что в итоге мы обнаружим мусор парижской подземки.
В этом современном эйфорическом пространстве, где все хорошо, где у каждого посредством смартфона есть возможность получить любую энциклопедическую информацию, ничего не остается, если вдруг разрядилась батарейка или отключилась электроэнергия. У писателей нет рукописей! Можно нажать кнопку, перезагрузить винчестеры — и ничего не останется. Огромные кладези информации поддаются стиранию одним движением лукавого мизинца! Мне недавно отключили сайт, и я с ужасом подумал, что там лежит столько важных PDF-материалов, а есть ли копии — неизвестно. Слава богу, сайт разблокировали, копии уже сделаны, но я пережил очень неприятный момент потери. Вот почему я предпочитаю делать книги — чтобы оставалось что-то и в материальном измерении. Мы так долго уличали материю во вторичности, что стоим на пороге лишения ее.
— Возможности есть, просто я думаю, что существуют определенные ритмы времени. Вот, кажется, 30-е годы: сталинский террор, очень большие социальные преобразования, уничтожение деревни, не только в Украине, но и в России, Казахстане, выгон людей с постоянного места жительства на большие стройки, на заводы, чтобы они становились рабочим классом страны, которая строила светлое будущее, оправдывать невозможно. Просто есть ощущение, что в то время культура, литература Украины развивались как никогда быстро и продуктивно. Успехи тех лет несоизмеримы с достижениями лет независимости.
Мы настолько стали новаторами, настолько наша цивилизация предана теории исключительного новшества, что это, конечно, отражается в искусстве. Новое — признак искусства. Ходишь в Центре Жоржа Помпиду, на последнем этаже, и понимаешь, что здесь представлено культурное пространство современного искусства в самых — все-таки Париж — лучших образцах. И если представить, что его французские окна каким-то образом разбиваются, в помещениях погуляет ветер, снег, дождь — ничего от этого искусства не останется. Собрать экспонаты будет практически невозможно, потому что в итоге мы обнаружим мусор парижской подземки.
В этом современном эйфорическом пространстве, где все хорошо, где у каждого посредством смартфона есть возможность получить любую энциклопедическую информацию, ничего не остается, если вдруг разрядилась батарейка или отключилась электроэнергия. У писателей нет рукописей! Можно нажать кнопку, перезагрузить винчестеры — и ничего не останется. Огромные кладези информации поддаются стиранию одним движением лукавого мизинца! Мне недавно отключили сайт, и я с ужасом подумал, что там лежит столько важных PDF-материалов, а есть ли копии — неизвестно. Слава богу, сайт разблокировали, копии уже сделаны, но я пережил очень неприятный момент потери. Вот почему я предпочитаю делать книги — чтобы оставалось что-то и в материальном измерении. Мы так долго уличали материю во вторичности, что стоим на пороге лишения ее.
#16
Все начинается с отношения к слову
#15
— Да, я как раз хотел узнать, входят ли в антологию ваши стихи? И расскажите, пожалуйста, о своем творчестве.
— Да, они там есть. Каждый раз, отвечая на вопрос о творчестве, начинаешь думать заново, нет какой-то четкой формулировки, которую можно было бы использовать, чтобы отвязаться от этого в чем-то некорректного, интимного вопроса. Да, это действительно так, потому что я не знаю, как и что происходит. Но могу сказать, что все начинается с отношения к слову. Если заглядывать в глубину слов, жизнь практически каждого слова с ее миллионными смысловыми отражениями окажется больше времени твоей жизни во многие тысячи раз. Самое элементарное односложное слово «стол» достойно не только различных диссертационных исследований, а и многих больших судеб! В каких только контекстах оно не существовало в бесконечных смысловых и звуковых парадигмах! Когда обращаешься к стихам, когда тебе открывается слово в переливах звучаний, конечно, ты ошарашен.
Все основное рождается из звука и звуком. Звук подсказывает, предрекает смысл. Звук есть смыслообразующее начало в поэзии. И поэтому твоя задача в творчестве… Да никакого творчества нет: ты просто живешь и постоянно прислушиваешься ко всему. Стихотворение рождается из обыденной речи, из случайного шороха. Ты не знаешь, откуда оно возникнет, но оно возникнет обязательно! Представьте, как человек сидит и ловит рыбу. Он же не видит, какая рыба в реке, не знает, что клюнет, что он поймает. Нужны хорошие снасти, правильная наживка, и тогда рано или поздно блеснет чешуя.
— Да, они там есть. Каждый раз, отвечая на вопрос о творчестве, начинаешь думать заново, нет какой-то четкой формулировки, которую можно было бы использовать, чтобы отвязаться от этого в чем-то некорректного, интимного вопроса. Да, это действительно так, потому что я не знаю, как и что происходит. Но могу сказать, что все начинается с отношения к слову. Если заглядывать в глубину слов, жизнь практически каждого слова с ее миллионными смысловыми отражениями окажется больше времени твоей жизни во многие тысячи раз. Самое элементарное односложное слово «стол» достойно не только различных диссертационных исследований, а и многих больших судеб! В каких только контекстах оно не существовало в бесконечных смысловых и звуковых парадигмах! Когда обращаешься к стихам, когда тебе открывается слово в переливах звучаний, конечно, ты ошарашен.
Все основное рождается из звука и звуком. Звук подсказывает, предрекает смысл. Звук есть смыслообразующее начало в поэзии. И поэтому твоя задача в творчестве… Да никакого творчества нет: ты просто живешь и постоянно прислушиваешься ко всему. Стихотворение рождается из обыденной речи, из случайного шороха. Ты не знаешь, откуда оно возникнет, но оно возникнет обязательно! Представьте, как человек сидит и ловит рыбу. Он же не видит, какая рыба в реке, не знает, что клюнет, что он поймает. Нужны хорошие снасти, правильная наживка, и тогда рано или поздно блеснет чешуя.
То же самое и здесь: нужно обладать определенным техническим навыком. Николай Гумилев предполагал: чтобы писать стихи, нужно или вообще ничего не знать о технике стихосложения, или владеть ею в совершенстве, чтобы она не была помехой. Вот и вчитываешься в книжные сонмища, прислушиваешься к течению жизни и ловишь на пузырьки времени свет пауз. Иногда много лет ничего не пишется, а потом возникает звуковой образ, за которым уже, как за леской, проявляются новые смыслы. То есть поэзия является неким комплексом, неким принципом, если угодно, некоей сферой познания мира в раскрывающихся в звуке припоминаниях.
Если ты пересказываешь — есть такая плакатная поэзия: у тебя некая идея и ты пишешь словно стенгазету, — то это мало интересно, хотя иногда полезно. Такое стихосложение обслуживает человеческие занятия, знания, стремления и так далее, но меня интересует другое. Меня интересует открытие новых значений, когда слово, язык формируют твое сознание. И тогда уже неважно, что будет дальше происходить со стихотворением, потому что чудо уже произошло, ты уже пережил языковой катарсис. Дальше, Бог весть!
Если ты пересказываешь — есть такая плакатная поэзия: у тебя некая идея и ты пишешь словно стенгазету, — то это мало интересно, хотя иногда полезно. Такое стихосложение обслуживает человеческие занятия, знания, стремления и так далее, но меня интересует другое. Меня интересует открытие новых значений, когда слово, язык формируют твое сознание. И тогда уже неважно, что будет дальше происходить со стихотворением, потому что чудо уже произошло, ты уже пережил языковой катарсис. Дальше, Бог весть!
#20
#19
— Тогда последний вопрос. Если выходить за рамки отношений человека и мира, к каким поэтам вы прислушивались на протяжении своего творчества?
— Здесь все очень просто. В юности нам всегда ближе Лермонтов. Чуть вырастая, мы понимаем, что Пушкин — «наше всё». Потом, конечно, Тютчев и Блок — и у одного, и у другого удивительно музыкальные стихи. Еще со мной всегда Есенин. Однажды Есенину сделали замечание, что он написал неграмотно, так нельзя сказать по-русски, на что он криком ответил: «Я и есть русский язык!» Сергей Александрович был искренен: не отделить поэта от языка, они есть одно целое. Язык проживает судьбу своего поэта, как и поэт проживает судьбу языка. Очень важны еще Клюев и Хлебников — я сам, осознанно выбирал их в учителя поэтической речи. Меня очень увлекали обэриуты, потому что действительно детской поэзии не существует, бывают самонадеянные взрослые. И так далее, и так далее…
Уже позже я открыл для себя замечательную украинскую поэзию XX века. Заново прочел Тараса Григорьевича. Чем дальше, тем больше, кажется, понимаю его. Время статично, и время Шевченко — это время, в котором мы живем. И всеобщее, всемирное самозванство, которое нас окружает, и им ощущалось точно так же, потому что мы забыли о том, что у него была мечта, великая мечта — объединение славянских народов. И он до конца дней не отказался от нее. А у нас теперь «славяне» чуть ли не ругательное слово. Как мы к этому пришли? Значит, Шевченко мы не читали. Хоть и чтим.
— Здесь все очень просто. В юности нам всегда ближе Лермонтов. Чуть вырастая, мы понимаем, что Пушкин — «наше всё». Потом, конечно, Тютчев и Блок — и у одного, и у другого удивительно музыкальные стихи. Еще со мной всегда Есенин. Однажды Есенину сделали замечание, что он написал неграмотно, так нельзя сказать по-русски, на что он криком ответил: «Я и есть русский язык!» Сергей Александрович был искренен: не отделить поэта от языка, они есть одно целое. Язык проживает судьбу своего поэта, как и поэт проживает судьбу языка. Очень важны еще Клюев и Хлебников — я сам, осознанно выбирал их в учителя поэтической речи. Меня очень увлекали обэриуты, потому что действительно детской поэзии не существует, бывают самонадеянные взрослые. И так далее, и так далее…
Уже позже я открыл для себя замечательную украинскую поэзию XX века. Заново прочел Тараса Григорьевича. Чем дальше, тем больше, кажется, понимаю его. Время статично, и время Шевченко — это время, в котором мы живем. И всеобщее, всемирное самозванство, которое нас окружает, и им ощущалось точно так же, потому что мы забыли о том, что у него была мечта, великая мечта — объединение славянских народов. И он до конца дней не отказался от нее. А у нас теперь «славяне» чуть ли не ругательное слово. Как мы к этому пришли? Значит, Шевченко мы не читали. Хоть и чтим.
Да, теперь мы дальше друг от друга, чем когда бы то ни было. Лайки и посты подменили наши взгляды и суждения. Среди тысяч друзей в соцсетях и прогуляться по набережной не с кем. Надеясь, что и наше время кристаллизуется в неясных пока смыслах, хочу закончить нашу беседу таким четверостишьем:
Как за поле выкатит речка щит пурпурный,
сеяное весело разойдется бурно,
где кусты безногие — зашумят тростинки,
выведают путника из тропинки.
442
Центр междисциплинарных исследований